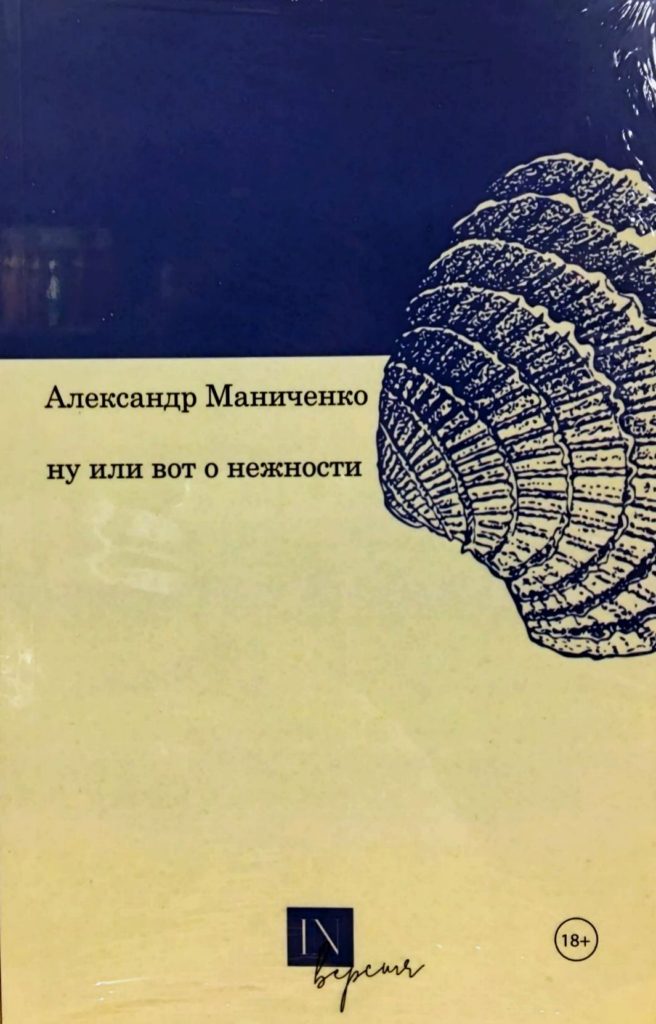
Екатеринбург: М.: Кабинетный учёный, 2020 (Серия «InВерсия»; вып.2)
«ну или вот о нежности» — первая книга челябинского поэта Александра Маниченко. Почти одновременно с её выходом в проекте «Одноглазый бандит» появились ещё две его книги с изящным оформлением Валентины Шаш и Артёма Кудрякова. Одна из них — венок сонетов «Гербарий», плод медитативного созерцания флоры сада с постоянно меняющимися ритмами и ракурсами.
Книга, о которой пойдёт речь — тоже своего рода венок сонетов, и ключ к нему — вступительное «Новогоднее обращение». С первых строк задан дружеский, интимный тон речи и начат поиск того уникального, что говорящий/автор может сказать, раз уж между ним и адресатом возникла коммуникация. Этапы поиска становятся названиями частей книги: «вот например о боли», или «вот например о неловкости», или «вот например о памяти». Эти темы ощупываются как что-то физическое, изучаются, пока автор не отыскивает наиболее верную — и даёт название книге.

«ну или вот о нежности» — формула, описывающая модальность всего сборника: без излишней риторики, через будто бы произвольный выбор (признавая при этом ценность каждого альтернативного варианта) дейктический жест приглашает нас к пристальному предметному созерцанию.
Тема найдена, и вслед за этим текст заполоняет целый поток имён, между которыми стёрты запятые — только воздух пробелов, общий для всех, «как пирог за столом, как диван по ночам». Имена из этого каталога разбредутся по всей книге: «Р.К.», «К. Ч.», «один мой друг» — все они помещены в текст как подчёркнуто реальные люди («Вокруг одни имена / всё остальное далеко и незначительно»).
Стихи Маниченко, с одной стороны, глубоко укорены в конвенциональной поэтической традиции — отсюда соответствующая тропика, многочисленные аллюзии и парафразы (от Державина и Шекспира до Фроста и Заболоцкого(1)), а с другой — очень чутки к проблематике актуальной поэзии. Субъекты и идентичности размываются: «я буду один / я буду одна / я буду одно»; сквозь ироническую перепевку «Виновата ли я» проступает ужас, она становится песней о насилии.
Нет у меня куста белых роз
Намотай косу мою на кулак
Бей меня об стол головой
Жги меня в вечном огне
Телесность у Маниченко чистая и честная. Образы, созданные на основе традиционных метафор («у моего садовника красивые руки большие травы голубые розы»), свободны от лицемерной эвфемистичности и объективированности. Тело для автора — инструмент соучастия, «билингвальное пространство» «полного и точного перевода / с языка меня на язык тебя». Оно всё ещё загадочно и иррационально, но за его тайной скрыты только восторг и забота, но не насилие.
Другие постоянно присутствуют на страницах книги: тексты Маниченко изобилуют чужой речью и дружескими обращениями. Лирический субъект с теплотой относится даже к архаической фигуре творца: «боженька дай мне слово / тёплое как корова…». Идея создателя мира как текста всё ещё притягательна для автора. Распад прежних, «уютных» смыслов — как явление не только сегодняшнее, но и вневременное — переживается с растерянностью и болью в «Логоцентрическом плаче», завершающем книгу.
ах
если бы жизнь порождала слова
если бы песня как роза цвела
зримая глазом
во все бы глаза
мы наблюдали б движение гла
голов по тверди воздушной
от разверстого в акте творения рта
до пластичной реальности в акте любви
понимающей и принимающей дар
если б физис устраивался людьми
я был бы действительно нужным
Александр Маниченко использует достаточно традиционный арсенал поэтических средств и при этом осмысленно и честно прибегает к методам новейшей поэзии. Однако актуальное явлено в его текстах всегда неоднозначно и остранённо, из-за чего Данила Давыдов в кратком послесловии называет Маниченко одним из «самых оригинальных и одновременно непрочитанных поэтов своего поколения». Не забывая об ужасающей сложности сегодняшней жизни, Маниченко призывает к вечным и простым вещам: нет, не любить, а испытывать нежность — друг к другу и к красоте мира.
Примечания
Статья написана для журнала “Парадигма”, № 2, 2020
- См., например, «Фрост. Вариации», или стихотворение о «некрасивой девочке» («Как сердцу высказать сердец / И шум и ярость боль и треск /Стук клапана и крови плеск?»), или «Логоцентрический плач» («как река времён уносит в своём голодном стремлении / старые вещи…»).
