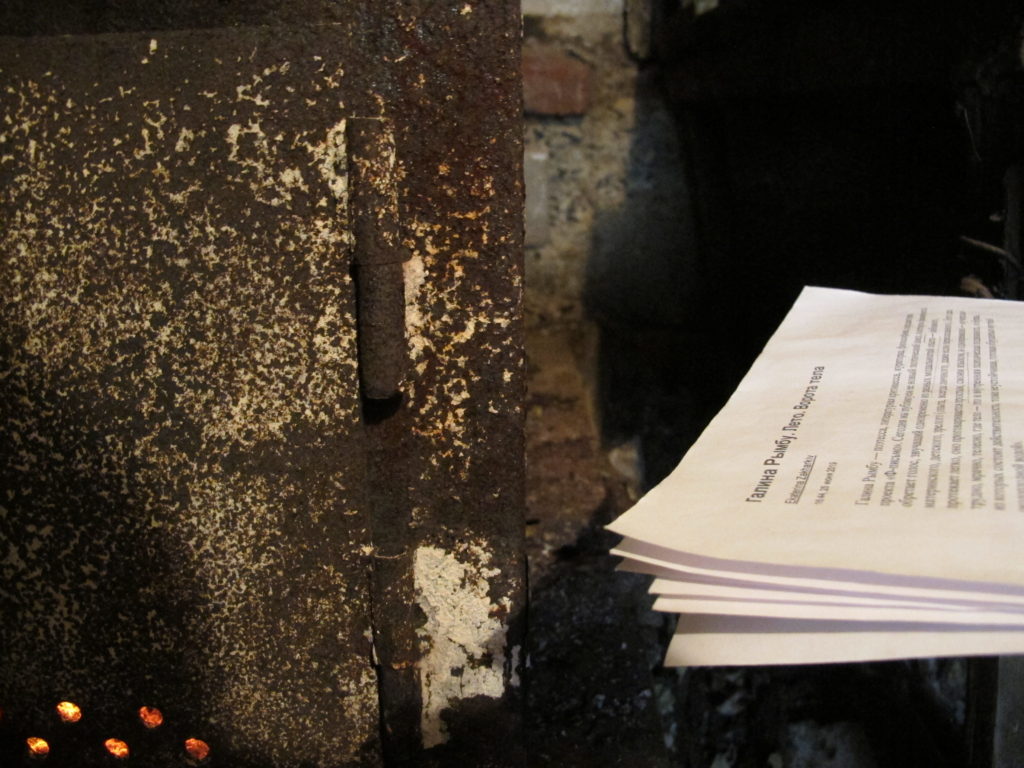Разговор о женском письме – непростой. В том числе и потому, что авторки теории расходятся в его определениях да и само определение этого феномена все время ускользает.
Само понятие возникло в рамках феминистской литературной критики во Франции в 1960е-70е годы. Обычно, выделяют французское и англо-американское направления. Американская феминистская критика, тесно связанная с политическим высказыванием, возникает в 1920е-30е годы, на волне суфражизма, а расцвета достигает в 1950е-70е годы.
Именно в ее рамках возникает противодействие традиционному литературоведению и ставится ряд очевидных сейчас вопросов: почему из классической литературы практически вытеснены женщины-авторки, кто является субъектом текста, чьими глазами читатель смотрит на героинь и оценивает их. Впервые звучат понятия объективации, мужского взгляда(male gaze), поведенческих стереотипов героинь. В конечном итоге это приводит к вопросу о том, как и почему женская идентичность конструируется текстами, в которых героини максимально далеки от реальных женщин, ведь являются продуктом мужских представлений и фантазий. Кроме того, исследовательниц интересовал вопрос о женском читательском опыте, истории женщин-читательниц. Что, когда и почему читали женщины, как, кем и с какой целью формировались их вкусы и предпочтения.
Естественно, результаты исследований замкнулись на патриархальной системе как основообразующем социокультурном понятии, вопросах власти и т.д. Потому феминистское направление литературоведения и подверглось резкой критике академического сообщества. Критика эта была скорее эмоциональна и истерична: авторок обвиняли в ангажированности, непрофессионализме и необъективности. По большому счету, феминистское направление в литературоведении до сих пор не является признанной научной традицией, ведь подобные разговоры ведуться по сей день.
Среди имен авторок англо-американского направления феминистской критики следует назвать Вирджинию Вулф, Кейт Миллет, Джулиет Митчелл, Мэри Эллманн и других.
Параллельно с англо-американской традицией критики, начало развиваться французское феминистское литературоведение. Оно возникло на совершенно другой почве, основываясь преимущественно на философии и неомарксизме.
Так, женское письмо завязано в первую очередь не на субъекте высказывания (то есть женским письмом не является все, написанное женщинами), а скорее на постструктуралистской идее о преодолении инерции языка, выбирании из иллюзорных бинарных оппозиций и иерархических конструктов, созданных идеологией для подтверждения и укрепления тех или иных властных отношений.
С другой стороны оно зиждется на идеях неомарксистского литературоведения (Теодоро Адорно, Терри Иглтон), в которых идет речь о том, что лакуны и умолчания в тексте куда важнее его очевидного содержания. Именно в них скрывается подлинный нутряной его смысл. Иначе говоря, чем логичнее и безупречнее выглядит текст, тем больше идеологических подводных камней в нем скрыто. То есть исследование этих лакун, противоречий и умолчаний, соотнесение их с идеологическим, политическим, социальным, гендерным и другими контекстами и позволяет добраться до истинной его сути.
Женское письмо таким образом не стесняется своей неструктурированности, не стремиться прикрыть и заполнить идеологией существующие лакуны и это важно.
Элен Сиксу, постструктуралистка и писательница, в своей программной книге “Хохот Медузы” впервые употребила термин “женское письмо” (écriture féminine). Французские исследовательницы (Ю.Кристева, Э.Сиксу и др.) говорят о женском письме как о неотрефлексированном, многолетнем выстраивание женщинами своего способа говорить, а значит, своей реальности, своей, настоящей, а не навязанной авторами-мужчинами, идентичности.
Таким образом, женское письмо – это то, что должно децентрировать систему значений языка, разрушить его изнутри. Сделать так, чтобы не осталось грани между говорением и текстом, порядком и хаосом. Чтобы маскулинный язык, основаный на бинарностях, был уничтожен. А на смену ему пришёл язык как физический акт, как голос, дыхание или тело.
Для нового способа говорения, женского говорения, нет других границ, кроме границ себя, которые нужно преодолеть, то есть выйти за границы своей телесности путем её проговаривания. Как заклинание – до-социальное и до-языковое, то, что выразить невозможно. Именно поэтому женское письмо работает принципиально иначе, не подвергается классификациям и теориям, ускользает от маскулинных дискурсов.
«Женское письмо будет доступно лишь тем, кто разрушает автоматизм, тем, кто находится на периферии, и кто не поклоняется никакой власти», – пишет Элен Сиксу.
В своей книге на уровне языка и текста она пытается выразить тревогу, связанную с патриархальным вытеснением женского в пространство несуществования. «Женщина либо пассивна, либо ее не существует». Потому необходимо зафиксировать телесное переживание этого страха.
Женское письмо – двойственное понятие. С одной стороны оно призвано сломать традиционные бинарные оппозиции, запирающие женский опыт и женское существование в сфере невидимого, а значит несуществующего, с другой стороны оно постоянно обращается к таким понятиям как чувственность, женственность, телесность, эмоциональность.
Именно за этот парадокс понятие в первую очередь критиковалось. Однако, отрицательные коннотации, вчитываемые в эти характеристики – это в первую очередь следствие патриархальной логоцентрической картины мира и пренебрежительного оценивающего взгляда с этой позиции. В рамках феминистских практик женское письмо это попытка создать новые смыслы для привычных понятий, выработать новый язык для того, чтобы говорить о своем уникальном опыте.
Язык женского письма является ярким, живым, выразительным, эмоциональным. Он связан с телесностью и сексуальностью, с множественностью их проявлений в конечном счете противопоставлен патриархальному монолитному целостному образу “я”.
Новым практикам письма должны соответствовать и новые практики чтения – иррационального, субьектного, оценочного и нелинейного. Таким образом феномен женского письма всегда оказывается в стороне от академической безусловной объективности – за что подвергается критике и даже осмеянию, за которыми сквозит неприкрытая тревога и страх.
«Невозможно определить феминистическую практику письма, и эта невозможность останется, поскольку эту практику нельзя загнать в рамки теории, ограничить правилами – но это не значит, что она не существует. Но она всегда будет превосходить дискурс, который регулируется фаллоцентрической системой; она всегда в тех областях, которые выходят за рамки подчинения философико-теоретического доминирования. Она всегда постигается лишь теми субъектами, которые разрушают автоматизм, фигурами, стоящими на периферии, куда не доходят власти» – пишет Элен Сиксу.
Таким образом, маркируя тот или иной текст как представляющий женское письмо, мы должны понимать, что вкладываем в это. Безусловно, понятие содержит мощное политическое высказывание – поддержать формирование независимой новой женской идентичности, вывести ее из-под идеологических и политических структур патриархального дискурса. Создать новый способ говорения. Значит – в конечном итоге – зафиксировать ее реальность.
статья написана для Высшей Школы Равноправия