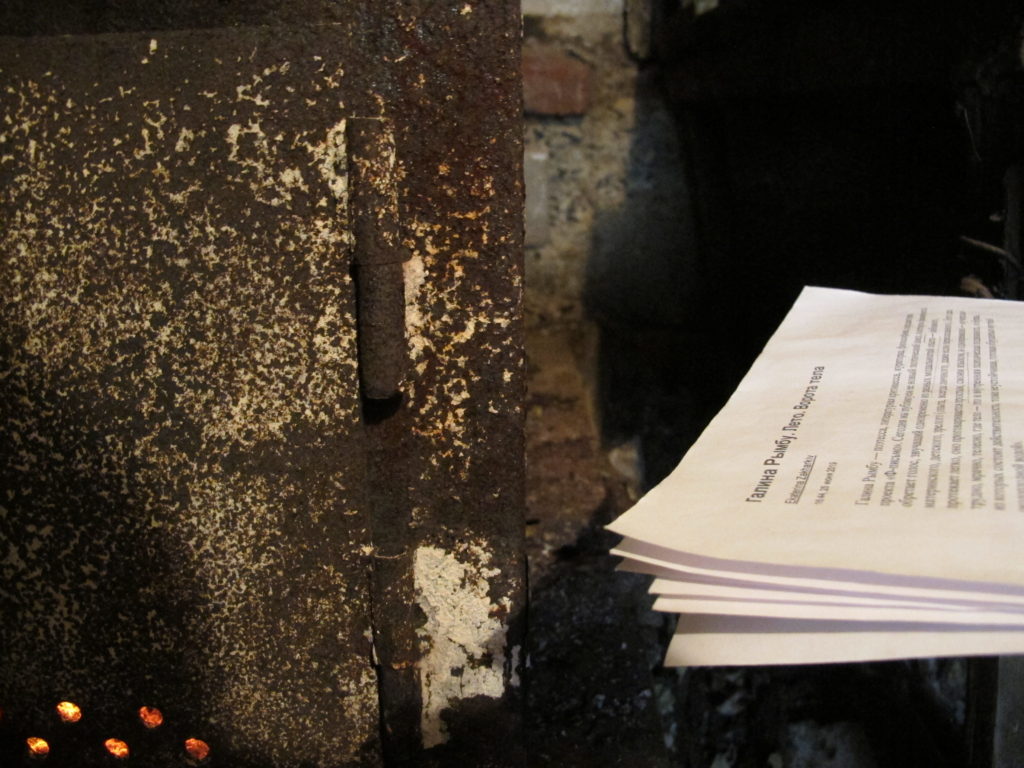Новое литературное обозрение, 2020 г. – 184 c.
Екатерина Симонова как поэтесса состоялась благодаря нижнетагильской поэтической школе (возникшему в 2000-е детищу поэта Евгения Туренко и исчезнувшему как активное явление с его смертью). За короткое время в небольшом городе появились сразу несколько сильных молодых поэтов, связанных на тот момент общим местом жительства и фигурой учителя: Елена Баянгулова, Алексей Сальников, Руслан Комадей, Елена Сунцова и др.
Этих авторов объединял в том числе специфический подход к тексту, который они создавали. Данила Давыдов так охарактеризовал его в статье про Нижнетагильский поэтический ренессанс: «Образ локального нижнетагильского текста не столько даже мрачен или безысходен, сколько стерт, изъят из бытия; отчаяние здесь-бытия за редкими исключениями не романтизировано, но заземлено». И именно в этой стилистике скрыт один из ключей к текстам рецензируемой книги.
Симонова — уральская поэтесса. Несколько лет назад она радикально сменила манеру письма (из конвенциональных, часто ритмически организованных текстов — в обширные верлибры на грани прозы). Итогом этого перехода стала премия «Поэзия» (2019), открывающая номер журнала «Воздух» обширная подборка, а затем книга «Два ее единственных платья».
Текст Симоновой очень плотный, насыщенный деталями. Реальность этих стихов наполнена вещами — мелочами, из которых возникает история, «которую нужно однажды рассказать/ чтоб не сойти с ума». 81 №2 2019 Люди обычно напрямую связаны с вещами, как с чем-то реальным, заземляющим. Недаром Симонова так любовно перебирает украшения, платья, бусины.
Стихотворения часто начинаются с яркой вещественной детали, вокруг которой, как жемчужина вокруг песчинки, попавшей в ракушку, нарастает стихотворение: пироги с капустой, «перекатывающиеся в ящике серванта несколько черных пуговиц», кроссовки бывшей, колье времен СССР. Также любовно она «перебирает» людей — живых, мертвых, близких, реальных или почти мифологических. В пространстве этих текстов одинаково равны умерший дед Семен Аристархович, Елена Баянгулова, Афанасий Фет, Нина Петровская, Михаил Кузьмин, Сильвия Плат и тагильские подруги из 2003 года. Страсть к «разному странному коллекционированию» людей, вещей и воспоминаний, как бы становящихся единой сущностью/веществом вполне объяснима, ведь «есть такая примета:/ вместе с вещами всегда уходят и люди».
Ещё одна отличительная черта текстов Симоновой — пронзительное проговаривание личного опыта, предельной искренности. Но сказать точно, говорит сама авторка или ее лирическая героиня, непросто, ведь с пронзительными историями соседствует горькая, но рассудительная и остраненная ирония «Твои болевые точки и чужая смерть —/ Залог литературного успеха,/ Основа нематериального капитала».
Доверчивый читатель может принять эти стихи за документальное письмо. Однако, документальность эта — кажущаяся. Гаятри Спивак в статье «Могут ли угнетенные говорить?» пишет о двух видах говорящих и, соответственно, двух видах репрезентации в документальном поэтическом тексте. Репрезентация опосредованная, то есть речь вместо, где поэт говорит вместо угнетенного. И репрезентация прямая, когда угнетенный говорит сам за себя, то есть, когда основой стихотворения становятся документы. В стихах Екатерины Симоновой говорящий постоянно ускользает: он примеряет разные маски, но, в итоге, всегда остается только авторским голосом.
Симонова работает не с документами, а с вещью гораздо более эфемерной — с памятью. В пространстве полусна, где духи мертвых, пришедшие то ли наяву, то ли в фантазии, соседствуют с реальным («на перекрестке Белинского-Щорса отличный овощной киоск»), возможно все, что угодно, ведь единственная оптика, которая доступна читателю — это оптика самого вспоминающего. Ни он, ни читатель не могут поручиться за то, что было на самом деле, что стерлось, а что наоборот — пригрезилось. Поэтому все пространство памяти в данном случае остается принимать на веру, как есть.
Память — один из ключевых образов книги: она «бесполезна столь же, сколь драгоценна», а «все друзья и родные — персонажи/ наших стишков,/ выдуманные именно потому, что невыдуманные», «в зеркале отразилось все, что я помню и что не помню». Память — единственный инструмент, фиксирующий реальность, но такой ненадежный, что для ее фиксации в реальности нужны вещи, материальные маячки.
Стихотворения в «Двух ее единственных платьях» часто построены по одной композиционной схеме — в начале предъявляется яркая вещественная деталь, разворачивающаяся в историю,— и мудрая сентенция в конце. Именно так и работает процесс припоминания — глаз цепляется за незначительные мелочи (красные деревянные бусы, «португальский пиджак из искусственной овчинки», кроссовки, висящие на проводах) — она становятся фрагментами времени, на них нарастает каркас событий, случайных людей; рассказ ветвится и усложняется, ведь «все пробелы должны быть заполнены», а в конце — искомая сентенция, мудрость от говорящего («Лучшие вещи — найденные случайно,/ Лучшие люди — появляющиеся тогда, когда ты их не искала» или «…о том что любишь/ действительно можно говорить часами/ можно говорить и говорить/ даже не произнося вслух/ ни слова»).
Как будто все события, вещи, всё, что нас окружает — картинки/слепки средневекового бестиария. Коллекционирование в памяти, сохранение того, что «нельзя выбросить,/ надо сохранить, позаботиться, поскольку —// это любовь, это большая проза, это маленькая поэзия,/ пронзи тельное “никак иначе”» — отсылает нас к фольклорным женским практикам.
Фем-письмо в стихах Екатерины Симоновой — это проговаривание и фиксация женского опыта, женского мира, где «традиционная» гендерная социализация воспринимается не как зло и насилие, а, скорее, как данность. Где приготовление еды — это преодоление смерти, а «…любовь — это память,/ Но и смерть, и боль — все па мять./ Я не знаю, есть ли что-то больше, и страшнее, и прекраснее,/ Есть ли что-то более непреодолимое и бессмертное, чем память». Похоже, что нет.
Статья написана для журнала “Парадигма” №2, 2020